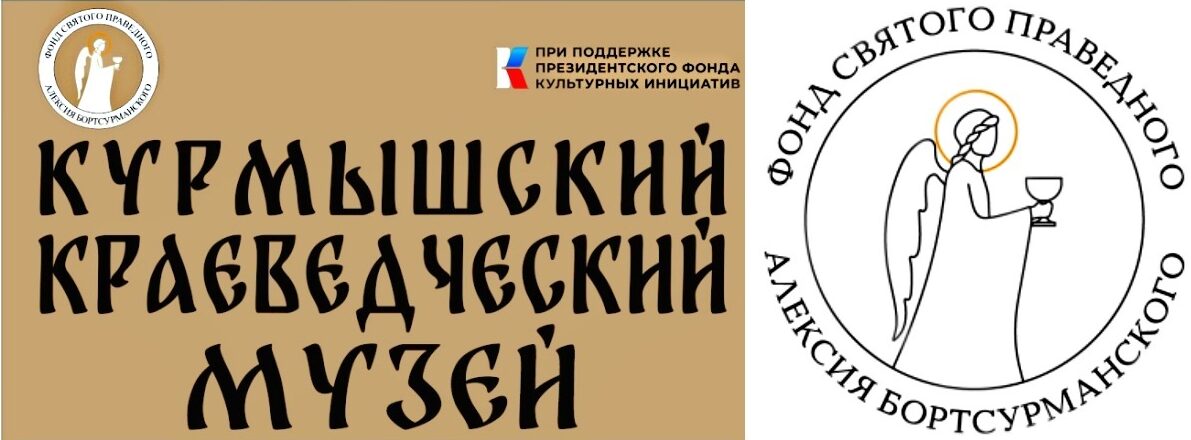Павел Баринов
Доклад на Курмышских краеведческих чтениях

К вопросу о пребывании Емельяна Пугачёва в Курмышском и Алатырском уездах и об идейной составляющей Крестянской войны 1774 — 1775 годов
(к 250-й годовщине пребывания Пугачёва в с. Курмыш)
 Имя Емельяна Пугачёва известно практически всем жителям нашей страны благодаря сведениям о наиболее широком крестьянском восстании в истории России (1773 – 1775 гг.). В июле 2024 года исполняется 250 лет с момента появления легендарного бунтовщика на территории правобережной Волги и Присурья, а в частности – на территориях Курмышского и Алатырского уездов. Легендарному бунту, «бессмысленному и беспощадному», посвящено немало страниц отечественной историографии. Однако данное движение, несмотря на стихийный характер, имело под собой внутреннюю политическую логику. Судить об этом можно по программным документам восставших, составленным, прежде всего, секретарем пугачёвской Военной коллегии А. И. Дубровским.[1]
Имя Емельяна Пугачёва известно практически всем жителям нашей страны благодаря сведениям о наиболее широком крестьянском восстании в истории России (1773 – 1775 гг.). В июле 2024 года исполняется 250 лет с момента появления легендарного бунтовщика на территории правобережной Волги и Присурья, а в частности – на территориях Курмышского и Алатырского уездов. Легендарному бунту, «бессмысленному и беспощадному», посвящено немало страниц отечественной историографии. Однако данное движение, несмотря на стихийный характер, имело под собой внутреннюю политическую логику. Судить об этом можно по программным документам восставших, составленным, прежде всего, секретарем пугачёвской Военной коллегии А. И. Дубровским.[1]  Речь идёт о так называемых «царских манифестах», появившихся на исторической арене в июле 1774 года, т.е. на заключительном этапе восстания на территориях правобережного Поволжья и Присурья. Залогами стремительного распространения восстания являлась также сформировавшаяся к данному периоду идентичность Емельяна Пугачёва как «незаконно отстранённого от власти императора» и нестабильная социально-политическая обстановка в регионе. Появление самозванца послужило лишь искрой для последующих волнений, продолжавшихся и после его смерти. Советский историк Сергей Тхоржевский назвал эту хаотичную крестьянскую войну «пугачёвщиной без Пугачёва».[2] Можно с известной долей уверенности утверждать, что описываемый этап имел наиболее яркое проявление в период с 17 по 31 июля 1774 года, в том числе, во время нахождения войск Пугачёва на территории будущей Нижегородской области.
Речь идёт о так называемых «царских манифестах», появившихся на исторической арене в июле 1774 года, т.е. на заключительном этапе восстания на территориях правобережного Поволжья и Присурья. Залогами стремительного распространения восстания являлась также сформировавшаяся к данному периоду идентичность Емельяна Пугачёва как «незаконно отстранённого от власти императора» и нестабильная социально-политическая обстановка в регионе. Появление самозванца послужило лишь искрой для последующих волнений, продолжавшихся и после его смерти. Советский историк Сергей Тхоржевский назвал эту хаотичную крестьянскую войну «пугачёвщиной без Пугачёва».[2] Можно с известной долей уверенности утверждать, что описываемый этап имел наиболее яркое проявление в период с 17 по 31 июля 1774 года, в том числе, во время нахождения войск Пугачёва на территории будущей Нижегородской области.

В связи с этим остановимся на указанном отрезке времени подробнее.
12-15 июля 1774 года армия восставших была разбита в ходе трёхдневных боёв у Казани. До указанных событий основной костяк их войск (до трёх четвертей численности) составляли башкиры. После проведения трехдневных боёв и нанесения поражения башкиры отказываются продолжать боевые действия и откочёвывают на родные земли. В этот момент Пугачёв, публично объявив о намерении «идти на столицу», начинает фактическое бегство в сторону Москвы, имея, по разным данным, при себе небольшой отряд от 200 до 1000 человек из представителей различных местных национальностей. Пугачёвская афера, впрочем, имеет успех: в считанные дни крепостное население и представители малых народностей восстают более чем в 40 крупных населенных пунктах региона. 17 июля отряд Пугачёва при поддержке местных черемисов и отставного солдата Дмитрия Кораблева переправляется у города Царевококшайска (ныне Йошкар-Ола).[3] В трудах марийских исследователей обычно упоминается, что именно здесь впервые передовой отряд казаков вручает список «Манифеста» местным жителям [4], хотя, скорее, здесь имеет место документальная путаница. Из сохранившихся документов на эту дату имеется только приказ лжецаря о наведении переправы, который не возымел успеха – остатки войск переправлялись стихийно и дезорганизованно, «держась за хвосты лошадей». Сам же Емельян Пугачёв, переправившись на старой рыбацкой лодке через Волгу, в самом Царевококшайске на задерживается, от поднесения хлеба с солью отказывается и продолжает путь. Попутно в сторону Цивильска командируется отряд под начальством Михаила Николаевича Негея. Тот войдёт в фактически опустевший город к концу дня и ничем не отметится, кроме актов мародёрства и попыток найти кого-либо из представителей местного сбежавшего дворянства для показательных казней.[5]


Пугачёвцы стремительно движутся вдоль Волги в сторону Присурья, достигая к 19 июля села Ильина Гора. Слава о восстании движется вперёд войска, на местах вспыхивают очаги сопротивления властям. С 17 по 27 июля на этой территории продолжает волноваться местное население. В каждом из крупных населённых пунктов участвует по 200—800 человек всех приходских жителей. В значительной мере причиной тому являлось недовольство местных жителей вследствие политики христианизации 1740 – 1763 годов. Отметим, что религиозная политика в этих местах носила как компромиссный, так и навязываемый характер, отмечались случаи насильственного крещения целых сёл. Однако наряду с этим чуваши оставались «ясачными людьми», т.е. платили Российскому государству фиксированный натуральный налог и не подчинялись помещикам.[6]

В это же время в ставке Пугачёва рождается программный документ, декларирующий основные цели поднятого бунта. Можно с уверенностью утверждать, что именно создание данного документа способствовало успеху крестьянской войны во второй половине 1774 года, а также её продолжению и в последующие годы. Манифест оформляется окончательно к концу июля (сохранились два практически аналогичных списка от 28 июля и 31 июля, публично прочитанных в Саранске и Пензе). Тезисно, основными целями восставших являлись:
1) Объявление личной свободы (через зачисление крепостных крестьян, или «черного народа» в «казачество»).
2) Жалование крестьян земельными наделами без выкупа и возмещения («Жалуем… владением земель, лесными, сенокосными угодьями, и рыбными ловлями и соляными озёрами без покупки и без оброку, и протчими всеми угодьями…»).
3) Освобождением от всех налогов и сборов, а также рекрутского набора.
4) Вторая часть обоих указов призывала к фактическому истреблению дворянства («кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах,— оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами»).[7]
Оба списка различаются между собой незначительным тезисом о «разрешении ношения бороды» (очевидно, был внесён в манифест с целью привлечь на свою сторону старообрядцев в местах их компактного проживания в отдельных поселениях Присурья). Нельзя не отметить, что Пугачёв обращался с манифестами к населению и раньше, с самого начала восстания, однако структурированных и столь радикальных идей ни один из них не провозглашал. Ранние программные документы пугачёвцев повествовали о «законности престолонаследия» царя-самозванца и не носили социального характера, поскольку сам характер бунта, его социальная база (яицкие казаки и башкиры) была иной. Отступив от Казани на земли современного Присурья, где, с одной стороны, наблюдался сильный крепостной гнёт в отношении русского населения, с другой – хаотичная и плохо продуманная национальная политика в отношении малых народов, Пугачёву потребовалось в сжатые сроки менять риторику.
Стоит также отметить, что первое упоминание подобного рода «царских манифестов» в источниках можно встретить не 28 и не 31 июля 1774 года, а именно 20 июля 1774 года, при появлении Пугачёва в городе Курмыш и 23 июля в городе Алатырь.[8]
Как уже упоминалось ранее, 19 июля стихийное восстание достигает противоположного берега Суры. Народная память к этому времени описывает происходящее в невероятных красках: тут и мифическое восстание под началом крепостной актрисы Настасьи Хлоповой; и не имевшее места в реальности массовое уничтожение дворян на острове близ Курмыша, упоминаемое одним из участников восстания; и красочное описание переправы через Суру «пьяным войском», описанное из неизвестных источников Алексеем Ивановым[9]. Судя по всему, именно подобным образом фольклор интерпретировал стихийность происходящих событий.
Однако реальность мало походила на народные предания. Задачей Пугачёва в тот период было как можно скорее организовать новые силы, при этом не вступив в прямое противостояние с правительственными войсками. В этот же период у него меняется идентичность. Если ранее внешняя атрибутика и «псевдоцарские» наивные порядки не играли столь важной роли для Пугачёва, то теперь для него становятся важными попытки разработать царскую артибутику и воспроизвести определенный церемониал.

Это можно пронаблюдать уже на примере взятия Курмыша. Емельян Пугачёв вошёл в город после быстрой переправы, без боя. По некоторым данным, численность его отрядов составляла около 2-3 тысяч человек. Нахождение Пугачёва в городе в первой половине дня составило не более 8 часов и, скорее, напоминало вербовку сторонников. Существует миф о расположении ставки пугачёвцев близ озера Рельского, что в корне неверно (и не обусловлено ни источниками, ни географически). Скорее всего, озеро служило лишь только местом для показательных казней, причём, как для восставших, так и для царских войск (отсюда происхождение названия, от слова «рель» – виселица).[10] 
Емельян Пугачёв расположился на городской площади, с высокой долей вероятности – близ Николо-Покровского храма, где ранее был отслужен молебен в честь царя Петра Третьего. Именно здесь впервые звучит публично «возмутительный манифест», упомянутый А. С. Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта». Скорее всего, это было первое публичное оглашение «Царского Манифеста». Создание этого документа и отнесение его к данному периоду допускается крупнейшим исследователем Овчинниковым Р. В., который путём анализа архивов пугачёвского войска приходит к датировке конца июня-начала июля 1774 года на основе компилирования положений ранее обнародованных указов. Здесь же, в Курмыше, впервые звучит призыв к фактической отмене крепостного права и определении всех желающих «в казачество» (ранее в указах данное право фигурировало только для непосредственных членов войска самозванного царя либо его административного аппарата). «Манифест» был озвучен в присутствии инвалидной команды (т.е. гарнизона города) и возымел успех. За время пребывания Пугачёва в городе отряд пополнило около 60 человек. Присягу отказались приносить лишь майор Юрлов и некий унтер-офицер, имя которого не сохранилось, за что и были впоследствии казнены в присутствии лжецаря. Также из окрестных сёл были приведены представители дворянства, тоже публично казнённые (по свидетельствам очевидцев, жизнь была дарована только малолетнему сыну помещика Бобоедова, угодившего пляской на царском пиру).[11]
Пугачёвцами, ранее при каждом овладении города освобождавшими заключенных из острогов, раздававшими казакам соль и денежные средства из государственной казны, в Курмышском уезде впервые также жаловалось и казенное вино (по всей вероятности, ранее подобные действия не совершались ввиду большого количества мусульман в войске восставших).

На основании действий Пугачёва в конце июля 1774 года можно судить о его полной самоидентификации к тому моменту с личностью Петра Третьего и попытке (пусть и достаточно наивной) навязать данный образ окружающим. Именно здесь впервые проявляются атрибутика и церемониал, а также попытки назначить собственную «царскую администрацию».[12] Так, в Курмыше назначается воевода Иван Яковлев, впоследствии с отрядом в 300 человек предпринявший неудачный поход на Ядрин. Откомандированный на Цивильск ранее отряд Михаила Николаевча Негея (легендарного чувашского повстанца) в размере 200 человек, впоследствии на основании не сохранившегося указа пытается отбить Курмыш, занятый 30 июля правительственными войсками.[13]
В Курмышском уезде также впервые проявляются публично антихристианские настроения пугачевского войска – вероятно, под влиянием настроений чувашей-новокрещенов, сохранивших языческие верования. Отмечается, что в той же Никольской церкви пугачёвцы «разбросали по полу ризы из ризниц, стихари и ходили в шапках, но убийств в тех же церквях не производили и грабежей не делали». В целом данные настроения не имели массовой поддержки со стороны местного населения и в дальнейшем послужили одной из причин выдачи Пугачёва властям его сообщниками.
Такие мотивы у восставших проявляются также и в Алатыре, занятом 23 июля. По воспоминаниям старожилов, упоминается осквернение самим Пугачёвым церковного алтаря и оглашение манифеста уже непосредственно в местном храме. В книге «Мои воспоминания» А. Н. Крылов, опираясь на рассказы старожилов, описывал это так: «Собрался народ, собор переполнен, только посередине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошёл Пугачев и, не снимая шапки, прошёл прямо в алтарь и сел на престол; весь народ, как увидел это, так и упал на колени – ясное дело, что истинный царь; тут же все и присягу приняли, а после присяги народу «Милостивый манифест» читали». Данные действия также подтверждают наличие основного программного документа к этому периоду. Крыловым также отмечается, что манифест произвёл неизгладимое впечатление на местное население, и в дальнейшем его содержание передавалось поколениями из уст в уста.[14]
С пребыванием Пугачёва в Алатыре также связано очередное проявление «псевдоцарской» атрибутики, а именно попытка начать чеканить собственные монеты и медали. В частности, в качестве важнейшего обвинения против Пугачева следствие выдвигало появление среди повстанцев медалей с изображением самозванца в виде императора Петра III.
Все обвинения Пугачёвым были отведены: «Манет никаких… никому нигде делать не приказывал и никому ж оных не давал, а естьли бы он хотел, тоб велел наделать и серебряных, и кто шелег (медаль) с его мерскою харею делал, – он не знает».[15]

Материалы допроса в тайной экспедиции в Москве показывают, что, находясь в Алатыре, Пугачёв попросил привести к нему городских ювелиров и, показав им рублевик Петра I, спросил: могут ли они сделать несколько медалей с его портретом? Серебряники отказали, сославшись на отсутствие штемпелей [16]. Но сохранилось предание о том, что всё-таки медали были сделаны, и ими Пугачев наградил наиболее отличившихся своих атаманов. По состоянию на 2024 года такие медали найдены не были.
Вместе с тем сохранились описания серебряных рублей, выпущенных в обращение самозванцем, которые ещё долго ходили в народе. Также в 2021 году в частных коллекциях было найдено несколько перечеканенных медных монет того периода, подлинность которых находится под вопросом.[17] На лицевой стороне был изображён поясной бюст бородатого мужчины в меховой шапке с остроконечным верхом, в мундире, погонах, с лентой через плечо. Вверху надпись: «Б. М. белый царь Петр Федоров». На обороте – восьмиконечный крест, на трёх поперечинах которого вычеканены слова: «Воля. Правда. Закон».
Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что идеологически крестьянская война 1774 года окончательно оформилась не в Саранске и не в Пензе, а на две недели раньше – на территории Присурья и Правобережной Волги. Вместе с тем значительная недоработка историографии с советским наследием – попытка преувеличить фактические действия самозванца в данный период, тогда как фактически имели место низовые крестьянские волнения в рамках концепции «пугачёвщины без Пугачёва», а именно – восстания множества местных мелких бунтовщиков, продолжавшиеся вплоть до 1779 года (до изменения Екатериной Второй системы местного самоуправления). Появление самозванца послужило в данном случае лишь искрой для социального взрыва, продолжавшегося потом ещё несколько лет и подавленного крайне жестокими методами (проводились как публичные казни, так и акции устрашения – например, создание «плавучих виселиц», описанных А. С. Пушкиным).
Недаром в дальнейшем Пугачёв является значимой фигурой местного фольклора и эпоса, вплоть до употребления слова «пугач» как синонима любого бунтовщика. Не в последнюю очередь толчком к социальным волнениям служило появление знаменитого «Царского манифеста», корни которого следует относить именно ко времени пребывания Пугачёва в Курмышском уезде. В свою очередь, задачей современной исторической науки следует считать исследование множества мелких волнений и проявлений недовольств среди русского крестьянства и малых народов в период с 1773 – 1779 г., вызванных появлением самозванца.
[1] Аксёнов А. И., Овчинников Р. В., Прохоров М. Ф. Документы ставки Е. И. Пугачёва, повстанческих властей и учреждений / Отв. ред. Р. В. Овчинников. — М.: Наука, 1975.
[2] Тхоржевский С. И. Пугачевщина в помещичьей России: Восстание на правой стороне Волги в июне-октябре 1774 года. — М., 1930, с. 45-46
[3] Мавродин В. В. Под знаменем Крестьянской войны. — М.: Мысль, 1974. Т. III, 1970, с. 147—150, 193—201.
[4] https://www.marpravda.ru/news/culture/bezhal-pugachev-cherez-kokshaysk/?ysclid=lzu32q7e6v414236650
[5] Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. Автор: Дмитриев-Мамонов А.И. — М.: Вече, 2013., с. 285
[6] Д. Л. Мордовцев. Политические движения русского народа, т. I. СПб., 1871, стр. 275—276, 329—330
[7] Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачёва. — М.: Наука, 1980. Стр. 240 — 241
[8] Пушкин А. С. История Пугачёвского бунта. — СПб., 1834. — Т. 2
[9] Вилы / Алексей Иванов. — Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – стр. 391 — 394
[10] Кузнецов С.А. Курмыш: История села с древнейших времён и до наших дней. – Нижний Новгород: «Издательство «Барс XXI век», 2002. – стр. 42 — 46
[11] Курмачева М.Д. Крестьянская война 1773 – 1775 в Нижегородском крае. Горький, 1975
[12] Летунова, Н. В. Лжеимператор в глазах народа. Анализ внешнего облика и деяний Е. И. Пугачева / Н. В. Летунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 194-196.
[13] Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии. Сборник документов / Сост. П.Г. Григорьев, В.А. Нестеров. Под ред. В.А. Нестерова. — Чебоксары: 1972.
[14] Мои воспоминания [Текст] / А. Н. Крылов. — Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2018. – стр. 277 — 279
[15] Емельян Пугачёв на следствии. Сборник документов и материалов / Сост. Р. В. Овчинников, А. С. Светенко. — М.: Языки русской культуры, 1997
[16] «Пугачевщина», т. III. М.—Л., 1931
[17] По материалам: https://vk.com/wall-167844263_41334?w=wall-163311924_30202