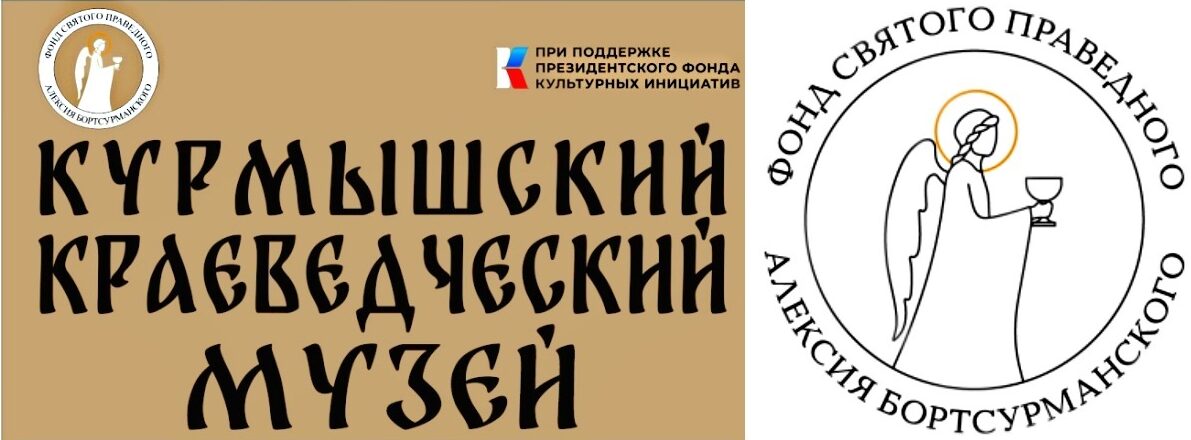Краеведческие чтения — 2023
Хутор Пигон и его обитатели
ДОКЛАД Александра Дюжакова

Русская сельская дворянская усадьба представляла собой целый мир, в котором, отражались все значительные внутри- и внешнеполитические события эпохи, социально-экономические и культурные явления в жизни России. Каждая из них имела свою неповторимую историю, свою жизнь, свои внутренние, присущие только ей особенности развития и существования.
В 1720 г. значительные территории в Нижегородском уезде приобрел Никита Демидович Антюфеев. В 1726 году его дети получили дворянский диплом «по Нижнему Нову городу». Вотчина постепенно делилась между их наследниками, кто-то продавал свои имения, кто-то приобретал новые земли. Возникали усадебные комплексы с домами, парками, садами, хозяйственными постройками. Некоторые из них сохранили до наших дней свою архитектурно-парковую целостность, от других остались лишь отдельные элементы, третьи исчезли, сохранившись лишь в виде топонимов, а иногда не оставили никаких следов.
Такая судьба была уготована усадьбе на хуторе Пигон (от англ. «Pigeon» или франц. «pigon» – голубь, голубятня, голубиный – А.Д.), о которой в своих воспоминаниях рассказывает Ольга Платоновна Демидова (в замужестве Вейсс). Владельцем имения был ее двоюродный дядя Владимир Павлович Веселовский. Сегодня от усадьбы, которая располагалась в трех верстах от хутора Гремячий (современный пос. Красная Горка Воротынского округа), где жили Демидовы, не осталось и следа.
 Анализ карт XIX века подтвердил, что к югу от хутора Гремячий, действительно стоял хутор. А на современной карте мы видим, что одна из улиц деревни Кирилловка современного Спасского округа Нижегородской области называется Веселовка.
Анализ карт XIX века подтвердил, что к югу от хутора Гремячий, действительно стоял хутор. А на современной карте мы видим, что одна из улиц деревни Кирилловка современного Спасского округа Нижегородской области называется Веселовка.
С точки зрения Ольги Платоновны, усадьба была построена на самом безотрадном и неинтересном месте: она стояла «среди плоской луговой равнины» и «версты на три кругом не виднелось ни леска, ни пригорка, ни реки, ни дороги, и расстилалось одно гладкое поле». Выбирал и планировал участок владелец: он «отыскал родники, выкопал прудок, насадил будущую рощу из молоденьких березок, разбил незатейливый сад и на двух сторонах необъятного поросшего зеленой травой двора поставил друг против друга два одноэтажных дома: один побольше для себя с женой и дочкой, другой поменьше для старушки матери; а затем год от года стали вырастать службы, погреба, амбары, сараи, молотилки»…
Владимир Павлович не устраивал балконов, затемняющих окна дома. Для супруги, которая, напротив, любила прохладу, рядом с домом было выстроено отдельное здание, с одной стороны которого шла крытая галерея с удобной мебелью, а с другой были расположены несколько кладовых. На дворе перед галереей стоял большой круглый, покрашенный белой масляной краской стол. Вокруг него стояли плетеные кресла и это было обычное место вечерних бесед и чаев летом.
Племянница в своих мемуарах называет Владимира Павловича самым большим оригиналом, какого она знала, считала его человеком большого ума и дарований и в то же время неудачником. «Даровитый и неотразимый» Владимир, любимец и баловень матери, Екатерины Васильевны, урожденной Демидовой, подавал большие надежды, однако «запнулся», не получил университетского образования. Какое-то время служил в Нижнем Новгороде, перечитал множество книг, ездил для чего-то в Италию. О нем сохранились воспоминания у Т.Г. Шевченко, который 13 января 1858 года записал в Дневнике: «Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Веселовского…».
Осознав свою заурядность, Владимир Павлович сделал удивительный поворот в жизни: поселился в деревне и с головой ушел в сельское хозяйство. Это увлечение, судя по всему, было родовой чертой Демидовых: и Прокофия Акинфиевича, и Льва Прокофьевича, и Василия Львовича, и ряда их потомков.
Владимир Павлович Веселовский неоднократно избирался гласным Земского собрания Васильсурского уезда. Он был убежденным монархистом, открыто критиковал реформы, принципиально отстаивал традиционные консервативные ценности.
Владимир Павлович, не признавая никаких условностей, одевался по погоде, главное, чтобы было удобно. Конечно, у него был приличный костюм для земских собраний, для поездок в Нижний, но в обычной жизни он носил вещи, которые вызывали удивление и усмешки со стороны родственников и соседей. С восхода до заката помещик проводил время на работах, сам собирал и разбирал машины, обучал работников.
Веселовский вел отшельнический образ жизни: с соседями общался мало, чтобы они к нему не ездили окопал свои владения канавами. Жил он на хуторе в окружении трех Екатерин: жены Екатерины Павловны, дочери Екатерины Владимировны и матери Екатерины Васильевны.
Екатерина Павловна (1823 – 1902 гг.), урожденная Шан-Гирей, была той самой Катюшей, которую ее кузен, М.Ю. Лермонтов в одном из писем благодарил за какие-то вышитые подтяжки. Всю молодость она провела при императорском дворе. Знакомство с Веселовским произошло, когда она гостила у брата Николая Павловича Шан-Гирея, чье имение находилось поблизости. Владимир Павлович совершенно потерял голову от черноокой красавицы, да и она искренне увлеклась им и не побоялась променять свое блестящее существование придворной фрейлины на жизнь захолустной хуторянки.
Екатерина Павловна была несколько старше своего мужа и, как пишет Ольга Демидова, к концу 1870-х годов «от ее красоты ничего не осталось, кроме выразительных глаз». Она располнела, но старинное воспитание, манеры, обходительность и приветливость со всеми, умение найти интересную тему для разговора и интересно его поддержать делали ее знатной дамой Васильского уезда.
В распоряжении Екатерины Павловны были экипаж лошадей и ключница, заведовавшая кухней, людской и погребами. В доме ей были предоставлены пять комнат из шести, обставленные по ее вкусам креслами, кушетками, козетками, оттоманками, канапе, пуфами и креслами-качалками, на которых лежали вышитые подушки и антимакассары.
В семье царили мир и добрые отношения, несмотря на то, что буквально все вкусы супругов были диаметрально противоположны. Екатерина Павловна была чрезмерно аккуратна и чистоплотна. Она спокойно, терпеливо, но настойчиво обучала девочек-горничных премудростям тщательной уборки в доме, которая производилась исключительно под ее присмотром. А вот кухней барыня совсем не занималась. Единственное место, куда она не могла проникнуть с горничной, тряпкой и метелкой, была комната супруга. Туда вообще никто из домашних не допускался.
В конце концов, Екатерина Павловна махнула на это и на многое другое рукой: на туалеты мужа, на его упорный отказ от знакомств и выездов, на его насмешки надо всем, что ей было близко и дорого, на страсть к диким парадоксам, из которых большей частью состояла его речь. Она пришла к выводу, что на него не нужно смотреть всерьез.
Свою единственную дочь родители безгранично любили: они жили ею и для нее, «и оба хотели видеть ее идеалом всех совершенств». Отец с малолетства выучил Катю ездить верхом, брал ее с собой на работы, поощрял склонность к сельскому хозяйству, любил видеть ее в сарафане и в платочке с серпом или граблями в руках, гордился тем, что она не знает усталости, не боится простуды и вообще вытравливал из нее все, что отзывалось «барышней». Он сам учил ее грамоте, следил за ее чтением, выписывал книги и зимой проводил целые вечера за чтением вслух и беседой по поводу прочитанного. Он любовался умом девочки и ее смелыми суждениями.
Екатерине Павловне хотелось вырастить дочь так, чтобы она могла достойно занять место в любом обществе. Сама она всегда и везде, где было можно думала и говорила по-французски; правильному русскому языку не научилась до конца своих дней. Вот и дочери знание французского языка она передала в совершенстве. Катя могла вести часовую беседу на французском языке с самой чопорной и скучной из светских дам или прилично и толково поспорить с каким-нибудь заезжим петербургским гостем. Мать смирилась с занятиями дочери верховой ездой и сельским хозяйством, посчитав, что они ее развлекали и приносили пользу для здоровья.
Дочь усвоила кодекс уставов хорошего тона и общества, преподанный ей матерью. Катя всегда сохраняла олимпийское спокойствие и самообладание, говорила необыкновенно авторитетно. Сконфузиться, растеряться, вспылить, сделать порывистую неосторожность она совершенно не была способна
Ни в гимназию, ни в институт отпустить дочь родители не пожелали, так как не желали «расстаться со своим сокровищем и уступить его чужому влиянию». Средства не позволяли выписывать для дочери учителей, поэтому Веселовские наняли выпускницу Нижегородского епархиального училища Прасковью Васильевну Софийскую, которая обладала исключительным тактом и милым характером. Она должна была пройти с Катей школьный курс грамматики, арифметики, географии и истории. Также ей вменялись обязанности экономки, которые она выполняла весьма усердно и добросовестно.
Перед закатом солнца Екатерина Павловна с дочерью и гостями любила делать прогулки по окрестным лугам и межникам. Эти прогулки сопровождались разговорами о будущем, об интересах современной молодежи. Вернувшись в усадьбу, все усаживались за круглый стол, на котором уже стоял самовар, булочки с маслом, простокваша и ягоды. Владимир Павлович приводил себя в порядок после хозяйственных работ и присоединялся к семье. Под умиротворяющим влиянием заката и летних сумерек он приходил в добродушно-веселое настроение и очень оживлял общую беседу.
Он хорошо и охотно читал вслух, особенно поэтов, из которых в то время выше всего ставил Алексея Толстого. Иногда читал и собственные стихи. Владимир Павлович Веселовский оставил после себя поэтическое наследство: под псевдонимом «лорд Ловелей из Эдинбурга» в 1886 году опубликовал поэму «Спрут», в 1883 году написал, а в 1901 году издал поэму «Дедушка», посвященную Василию Львовичу Демидову, а в 1903 году – сборник «От лиры до балалайки: Стихотворения Хуторянина».
Екатерина Павловна Веселовская скончалась 17 сентября 1902 года, была отпета в храме в честь Рождества Христова с. Быковка 21 сентября и погребена на Демидовском некрополе, где также покоилась Екатерина Васильевна. По сведениям, полученным от Н.А. Пакшиной, после смерти жены В.П. Веселовский продает имение и покидает Васильский уезд. В 1907 г. он гостил у родственников в Быковке, о чем свидетельствует запись в дневнике Александры Валерьевны. А вот место захоронения Владимира Павловича, который скончался в 1911 году, остается неизвестным. Записей в метрических книгах пока не обнаружено.