Краеведческие чтения — 2023
Доклад Елены Аникиной

Курмышский край в письмах дворянства первой половины XIX века
(тексты писем приведены в орфографии авторов)
В наш век мобильных телефонов мы пишем друг другу в основном короткие и информативные сообщения, а вот раньше люди писали письма, в которых подробно и обстоятельно излагали свои мысли. На примере семейной переписки курмышского помещика А.П. Шипилова постараюсь рассказать о жизни местного провинциального дворянства в первой половине XIX века.
Новости и происшествия, будни и праздники, семейные отношения — всё есть в этих письмах. Мы слышим окающую речь нашего героя («Нижной», «милой», «доброй» и т.п.) и улыбаемся, встретив ушедшие в прошлое фразеологизмы («Мне фигурить неприлично»).

Самое раннее письмо, известное нам, написано из села Болобоново в марте 1819 г. Александр Петрович пишет своей юной невесте Екатерине Мессинг. Ему 43, в прошлом кавалергард, участник войны 1812 г.; вдовец, отец двух мальчиков. Он долго выбирал себе жену и мать своим сыновьям. И не ошибся! Почти через 30 лет он напишет своей Кате: «Целую тебя, мой нежной друг, мой ангел, мое бесценное сокровище, ты жизнь моя, тобой я дышу, и нет мгновенья, когда ты не в моей памяти».
С 1829 г. начинается переписка со старшим сыном Петром, который был участником нескольких военных кампаний.
Март 1830 г., Болобоново.
«Очень обрадован получением от тебя известия о производстве твоим в офицеры и получением Георгиевскаго креста. Последнее же меня более обрадовало, нежели чин, ибо чины идут по линии, а знаки отличия за храбрость; и чтоб еще тебя порадовать, отрезал я от куска Георгиевских лент твоего прадеда, которыя после него остались, послал тебе как наследнику, получившим право это наследовать».
Октябрь 1831 г., Болобоново.
«Вспомни именно, как ты мне дорог. Ты с 2-х лет без матери на моих руках на ноги поднялся, я первой услыхал первое слово, которое ты произнес, я был твоя нянька, твой дядька и уже ты был 6-ти лет как Отечественная война 12-го году меня разлучила на два года от тебя, потом ты вырос, видел доброе твое сердце, любовь к Отечеству, отвращение ко всему худому <…> каково же мне тебя потерять?»

Хозяйство у Александра Петровича в имении велось как у хорошего председателя колхоза. Не буду утомлять вас урожаями и подсчетами Очень кратко.
Июль 1836 г., Болобоново.
«У нас все хорошо, хлеб отличной как яровой так и ржаной, так же и в Деянове, <…> в оранжерее персиков и желтых слив множество, жаль что ты не отведаешь. В Деянове стерлядей ловят, на 50 р. продали и на столько же белой рыбы, и сами едим».
Подробно описываются все домашние новости. Интересно, например, как проходило домашнее обучение детей.
Февраль 1831 г., Болобоново.
«Братья твои и сестры здоровы, еще новая у тебя сестра Варвара, которой с 15 ноября пошел другой год. Митя и Гриша учатся, Митя порядочно, а Гриша отлично. Вот уже два года мы имеем учителя очень хорошаго по фамилии Шнейтер, швейцарец, по французски говорят оба очень порядочно пишут по диктанту почти без ошибок и анализируют; священную и древнюю историю Гриша славно по своим летам знает, так же и географию порядочно, арифметике начали 2-ю часть. Соничку я выучил по русски читать и уже начинает и по французски, а Лиза – сантиментальная девица, еще с кошкой играет, в науки тяжело вступает, далее складов нейдет, но и не принуждаем. Еще забыл написать, что Митя, Гриша и Соничка начали учиться на клавикордах.
Ты удивишся, какие они все большие: Митиньке уже 11-й год, а Грише 10-й год, Соничке 6-й, Лизе 5-й».
Через полгода он напишет:
«Гриша талант к ученью имеет отличной, но такой же неловкой и сурьезной, как и при тебе был, естли еще не сделался угрюмее, учиться уже не только его принуждаем, но останавливаем, он окроме книг не имеет никаких забав, а ему минуло только в августе 10 лет. Это обстоятельство уже не совсем нам нравится. Хочется как нибудь сделать чтоб он был поживее, ибо всякая чрезвычайность не хороша, в эти лета надобно, чтоб ребенок и резвился».
Сохранилось и несколько писем детей. Видно, как они старательно выводят слова, у каждого свой слог. 12-летний Гриша пишет своей няне в Болобоново из Казани.
Июнь 1834 г.
«Я тебе в том письме написал, чтоб ты не плакала. Однако же ты очень худо исполняешь мою просьбу, потому что я по твоему письму узнал, что ты об нас не можешь без слез вспоминать. Я сам не могу без благодарности вспоминать о твоих попечениях, которыя ты нам оказывала. Ты также мне написала, что целуешь мои ручки, щечки, ножки и спинку: я за это тебе спасибо не скажу, потому что не ты должна целовать у меня руки и ноги, но я».
9-летняя Соня пишет отцу.
Март 1835 г., Болобоново.
«Дражайший Папенька, с каким нетерпением мы ждали лошадей, дабы возвратиться в Болобоново. Но приехав туда, я увидела, что без Вас очень скучно и без братцев, а теперь мысленно целую Ваши ручки и остаюсь на веки Ваша дочь Софья Шипилова. Лиза целует также Ваши ручки, равно Варя, Наташа, Саша и Сережа».
В письмах сообщаются местные новости. Рождения детей, свадьбы, прощания – обычное дело, но встречаются и оригинальные происшествия.
Январь 1830 г., Болобоново.
«Землетресение и здесь было с 5 на 6 Генваря, но было сильнее, чувствую, в Курмыше и, думаю, по причине той, что на берегу реки».
Март 1831 г., Болобоново.
«Мы не имели никакова сношения с Нижегородской губернии, ибо не только в Нижном, но в разных уездах оной холера показывалась, даже в соседственном нам Васильском, в Спасской волости, которая к нам очень близка. Но наш уезд Бог избавил. По границе от Нижегородской губернии был кордон, и главной карантин был у нас в селении».
Предположительно 1836 г., Болобоново.
«С Линдегрином [1] случилось с неделю назад произшествие по произведению смешное, а по существу очень не приятное. От нечего делать в Ягодном вздумал <…> делать цветник и в кустах разбил очень приятныя дорожки, то есть сделал приятной Англинской сад. Стал показывать, как обрезывать дерн, но чтоб показывать палочкой возле скребка, показывал пальцем, человек скребком подрубает, а он возле скребка показывает, как вдруг на место дерну ударил человек скребком по пальцу и отрубил прочь с ногтем по 1-й сустав. Это очень похоже на немецкаго студента, что на место палки водил пальцем возле скребка, но после поступил как искустной доктор. Нашел отрубленной палец, ибо он отскочил, высосал из него кровь и приложил опять, заклеив англинским пластырем, я третьяго дня видел что палец стал сростать, но еще очень болит, надобно сказать, что и кость перерубил».
Домашнее образование мальчики в дворянских семьях получали примерно лет до 13-15. Потом их отправляли в специальные учебные заведения, чаще в военные. В 1835 г. Александр Петрович везет сыновей Митю и Гришу в С.-Петербург, по семейной традиции поступать в ИКИПС [2], где они должны были получить профессию военных инженеров.
Вот какое напутствие пишет им мама (пер. с фр. яз.):
«Мои дорогие дети!
Если бы целью нашей разлуки не было бы ваше счастье, я бы поддалась горю, но поскольку все, что мы делаем, это для вашего места в жизни, я пытаюсь утешить себя и укрепить мыслью, что однажды увижу вас полезными для Отечества, вот смысл образования, которое мы вам даем. Вы сделаете все возможное, чтобы в этом преуспеть, не так ли? Будьте во всем усердными, прилежными и добросовестными.
Вы сделаете так, что вас все полюбят, вы будете счастливы, особенно не забывайте молиться Богу каждый день и будьте твердыми в своей вере. Я вас благословляю, придаю вам мужество выполнять свои обязанности с преданностью. Не забывайте никогда советов ваших родителей, мои дружочки, пишите так часто, как это вам будет возможно, по-русски или по-французски мне все равно, только бы я знала, что лежит на ваших молодых сердцах. Прощайте, мои дорогие друзья.
У меня есть только желание благословить вас, поцеловать вас, и Бог знает, сколько времени я не смогу сделать это, всегда помните мою нежность, это избавит вас от многих ошибок. Я полностью уверена, что вы доставите мне только удовольствие своим поведением. Я снова обнимаю вас, и я на всю жизнь ваша самая нежная мама, Катерина Шипилова».
В отсутствии мужа хозяйством приходится заниматься Екатерине Ивановне, хотя это было нелегко, по её выражению «детей куча, обо всяком забота»:
«Теперь денег у меня слишком 7 тысяч, но записывать по твоему не совсем берусь, например в конце каждаго месяца не знаю, что именно должно объяснять, позволь просто итоги подписывать?»
В основном, конечно, она пишет о детях, о домашних делах, о соседях.
«Вчера, проводя Метальниковых и Шипиловых, поехали на имянины к Елизавете Николаевне Пазухиной, где тоже очень приятно провели время; вот как мы завеселились, да и еще много предстоит праздников: 17 у Надежды Борисовны; 21-е у Дмитрия Сергеевича, 7-е октября у Зыбина; а дети наши почти не учатся, не убийственно ли это?»
Екатерина Ивановна дает мужу массу поручений. Осторожно, без приказа: «Мне кажется, что нужно очень купить», и – списочек на несколько страниц. В первых пунктах то, что необходимо для церкви, потом – для себя.
1.«Шерстей купи лучших по 4 тени розовых и сиреневых, малиновой пол фунта на фон, пунцовой четверть фунта, ранжевой и желтых поболее, то есть вместе теней 8 по 2 мота каждой; голубой лучших цветов 5 теней по 3 мота каждой; да черной, самой лучшей и крепкой, четверть фунта.
2. Башмачной материи prunelle, черной из 2-х сортов и пестрой (а к ним и лент купи);
3. В мускательном ряду взять 1 фунт лавандова масла.
4. Шелку на кошельки.
5. Не забудь струн для рояль и клавикорд купить.
6.Также хотелось бы мне иметь платье или шарф, да детям по платочку, знаешь эти пестрыя шелковыя, они не дороги и прочны очень, моются хорошо».
7. Деликатное поручение – корсет. Прилагает ниточки, которые являются мерками, беспокоится о качестве изделия: «Я на эти вещи не люблю даром бросать деньги, <…> у меня талья старушичья, однако платья ношу модныя».
И т.д и т.п ….Фунты, аршины, сорта .
Александр Петрович аккуратно выполняет все поручения жены, иногда прибегает к помощи знакомых дам, периодически пишет примерно такие отчеты:
«На платье тебе купили прелестную материю, называемую пу-де суа-глассе, голубоватую, вечеру входит совершенно в голубую, 22 аршина по 5 ½ рублей, следственно будет стоить 121 руб., а сошьётся дома по фасону Александры Николаевны; здесь шить не стоит, ужасно дорого, а шить – всякая девка сошьет, был бы фасон».
«Я сей час купил 5 пар колош, тебе, Софье, Лизе и Наташе, но маленьких не нашел, да и себе ещё, заплатил 40 рублей».
«Скажи Соничке и Лизаньке, чтоб они откровенно мне написали, чего им хочется, бумажек ли ещё или другова чего, всё куплю буде достанет денег, на нужное пусть просят у меня всё, с уверенностию, что только того не сделаю, что средствы не позволяют».
Когда возраст старшего сына Петра уже подходил к 30-ти, родители озаботились темой женитьбы. Маменька начала работу в этом направлении гораздо раньше, то и дело рассказывая в письмах о достоинствах соседских девиц:
Ноябрь 1831 г., Болобоново.
«Две недели тому назад было у нас очень весело. Д.И. Ермолаев приезжал с двумя дочерьми в Качалово и делал великолепные балы; девицы так умны, милы, хороши, что мы с Папинькой жалели очень, что тебя здесь не было, особливо меньшая, ах, естлиб ты женился на ней, как бы мы были этим утешены, ты бы, конечно, был с нею счастлив!».
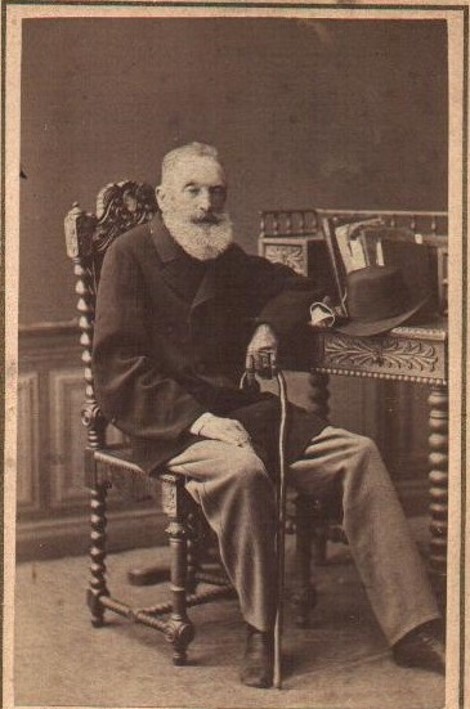
Время от времени она опять предпринимает робкие попытки, наконец, включается тяжелая артиллерия, в дело вступает папенька. Он серьезно подходит к проблеме и в августе 1836 г. пишет целый философский трактат. Приведу из него некоторые цитаты:
«Супружеская жизнь есть самая счастливая, ибо ближе друга не найдешь жены и особенно тогда, когда имеешь детей, есть исключении, потому что есть худыя мужья и худыя жены, которыя сами себе мешают в счастии, а чаще случается, что этому причины мужья, но бывают и верченыя жены, но это реже. Но я тебе скажу: не сотвореныль мы так, чтоб иметь при себе женщину? Ты скажешь «не все», ты прав! Есть такия, но чрезвычайно редко, и такой может быть не женат, но ты таков ли?»
«А естли жить так что иметь переменных шатанев по свету, это совершенно похожу быть на безсловесного кобеля, так не омерзительноль лишить себя достоинства человека? И как это противно Богу, и не может быть иначе, сам разсуди с собой».
«Страшно тебе пустится на женидьбу, чтоб на место счастия получить несчастие, взяв за себя женщину с худой нравственностию. Страх основательной, а по тому не надобно пускаться без разбору, а более покоряться разсудку, выбирать особу из честнаго и образованнаго семейства, девушку хорошо воспитанную. Обыкновенно дети родятся похожими на ближних своих не только наружным видом, но и душевным качеством, а самое главное: упование и безусловное предание себя в волю Божию».
«Я два раза женат и счастливо в обоих супружествах, так что детям своим лучшаго желать не могу. Следственно, не редкость быть счастливым в женидьбе. Но скажу и это: чтоб беречь дар Господень (ибо об благополучным супружестве иначе сказать нельзя) надобно друг другу сноровлять, хотя и оба супруга хороших свойств, но разных нравов два человека не могут быть одинаковы. Впрочем, я скажу: тебе холостым еще лет 5 быть можно, но не более, тогда уже будет худо».
«Скажу, о детях незаконно рожденных; они не будут твоего имяни, и больших трудов стоит, чтоб им что нибудь доставить, для отца это сокрушительно и тем, что дети выростя совершенное право будут иметь роптать на рождение свое».
«Жениться же на богатой, не включая богатство в единственное достоинство, не мешает при всем хорошим свойством невесты, а улучшит жизнь. Я б не менее был счастлив в супружестве, естлиб теперешняя моя жена была богата, но как я искал себе особу любезную по свойствам и образованию, не смотрел, имеет ли она богатство или нет, но моглиб жить свободнее, следственно богатствоб не испортило».
«Старыя холостяки деревенския, хотя и имеют почти все какия нибудь странности от грусти, которую скрывают, не чувствуя охоты тем удовольствием пользоваться что не допускало их обязываться <…> иметь семейство, в которым теперь чувствуют нужду и в тишине раскаеваются, что не женились в свое время. Назначение с Выше, чтоб человек имел семейство. Эгоизм, все разрушающей и совершенно порождение ада, препятствовал оному, ибо эгоист хочет жить для себя, не обязываясь семейством, думая что живет для себя, и наконец жестоко ошибется.
К проблеме выбора супругов Александр Петрович всегда подходил очень обстоятельно. Май 1841 г., С.-Петербург.
«Ты пишешь, милой друг, что взялась сватать Александру Васильевну Ляпунову за Ростислава Моисеева, <…> что он доброй, по тому, что помогает некоторым бедным посторонним, а своих притесняет, не кормит и бьёт так, что несколько раз бегали и жаловались Предводителю. Разве ты не знаешь его бешенаго и безразсуднаго нрава? Александра Васильевна умная и кроткая девушка и хорошо себя образовала, какой же ей муж Рост. Моисеев? Которой часто и пьян бывает? По моему мнению, ей, если не в доме родителей жить, то лучше идти в гувернанки в благородной дом, нежели быть женою вздорнаго и безтолковаго человека; котораго ум не допустит покориться никаким резонам.
В 1842 г. Петр, выйдя в отставку, женился на А.Н. Сущовой. Венчались они в СПБ, где его младшие братья заканчивали ИКИПС, там же, в Смольном уже училась и сестра Варенька. Эту поездку Александр Петрович описывает очень подробно.
Из писем А.П. Шипилова жене Шипиловой Е.И. 1841-1842 гг.:
О прогулке на Биржу: «Привезено пропасть попугаев, абезьян, американских воронов, чучелок колибрий и тысяча других певчих птиц. Пискотьня ужасная. Попугая зеленаго можно купить за 40 рублей, сераго за 60 рублей».
«Мы вышли возле оранжерей Аптекарскаго острова. Очень рад, что тут побывал; я то видел, чего никогда не видал: сажень по 3 несколько пальм кокосов, финиковых дерев и разных Американских и других южных произрастаниев, и невиданный мною жасмин сажень, думаю, в 6 высоты, густой и вьется по столбу весь в цвету».
«Вечеру был в театре во второй раз в италианской опере «Танкред»! <…> Музыка чудесная, исполнение прелестное; оркестр составлен был из лучших музыкантов. Есть ли что нибудь выше в музыке италианской оперы? В дуэтах и в общем хоре первых персонажей я плакал не один раз от восторгу».
А вот на водевиле признается, что «крепко в углу заснул». И все-таки страсть АП – изобразительное искусство.
«В тот же день мы с Петром пошли в Эрмитаж. Ходили часа три. Нашел работы Банбоша и Агриколы, и как ты думаешь, мои дороже стоют. <…> Вдруг нечаянно взглянул я вверьх в зале, где портрет Екатерины, плафон с того самаго написан эскиза, что я выменял у Константина Васильевича, и совершенно одни колера; я не знаю, как сняли его во время пожара. Это ужасная громада, скажу, что сберегли сокровище, чудная живопись Я носил Константинов эстамп в Эрмитаж; сличать с оригиналом, это две капли одни экспрессии»
«5-го числа я был в мастерской знаменитого Брюллова и с ним познакомился. Наперед тебе скажу: художник маленькой ростом, очень приятным лицом, гораздо показывающим менее лет тех, какие имеет. Обращение приветливое и ловкое. Работ его я видел много». Эмоционально описывает увиденные картины, многие из которых нам знакомы, как обычно интересуется ценами: «Портретные картины заказаны за 15 тыс. рублей, госпожа Бек пишется за 10 тыс., грудные портреты – за 1 тыс.
В Петербурге ему все напоминает о его молодости:
«Заезжали на Каменный остров. <…> И тут мне было всего приятнее. Моховой грот всё тот же, какой был в мою молодость, где часто бегали и даже прятались. Дом Строганова много изменился, но только верьх один да кентавров при входе нет; а зала внизу, где и я танцовывал некогда, в таком же виде. И Нептун тот же, но он уже без трезубца и без руки. Я не видал всего этого 40 лет! Сердце у меня трепетало».
Но большой город не привлекает его, он скучает по Болобонову, по своей Кате:
«Ах, как мне хочется скорее сесть в лодку чтоб плыть к тебе, мой нежной несравненной друг! Я вижу, что не могу без тебя жить».
«Как ты меня знаешь и как меня понимаешь. Как утешно мне твое познание моего сердца».
Подрастают дети и в письмах начинают делиться с родителями своими переживаниями и впечатлениями. Когда Дмитрий засомневался в правильности выбора профессии, он написал свои соображения в довольно большом письме, приведу только его конец.
Февраль 1844 г., С.-Петербург.
«Я это написал для того, что хочу знать, какого вы будете на этот счет мнения, которое для меня драгоценно, потому что весьма уверен, что оно мне всегда послужит в пользу, если я заблуждаюсь».
Любовь, отданная детям, сполна возвратилась к родителям. Дети пишут им нежные и трогательные письма, например, Митя пишет: «Хочется прочитать ваши письма на бумаге, которой покоились ваши руки, и на коей изображались ваши мысли, советы и разговоры со мною».
О своей первой любви он пишет, конечно, маме.
Февраль 1844 г., С.-Петербург.
«Я вам хочу признаться, маменька, в том, что мне всегда как то свободнее на сердце, когда я вам сообщаю что нибудь, что другому я не могу пересказать; я хочу вам говорить о Наталье Сергеевне Зыбиной. <…> Но не так много меня прельстила красота ея, как то, что в ней точно нет кокетства, что весьма редко в сдешних городских красавицах и что у нее добрая душа, как у Ангела. Если судьба меня не осчастливит однажды соединиться с нею, то мне кажется, что я ни на ком больше не женюсь».
Время шло, барышни Шипиловы вступали в возраст невест. Руки Софьи Александровны просит Николай Петрович Макаров – помещик с. Еделево, музыкант, композитор. Его авторству приписывают песню «Однозвучно звенит колокольчик». Вдовец. Как происходило сватовство, мы узнаем из писем Макарова. Он пишет отдельно отцу, матери и самой Софье.
«Милостивый государь Александр Петрович!
Не знаю, радость или горе готовит мне судьба? Со страхом ожидаю решения моей участи, и сомнение все более и более объемлет мне душу. Но что ни будет, без ропота покорюсь я воле Провидения и воле Той, для счастия которой посвятил бы я с восторгом и благодарностию весь остаток моей жизни. Посылаю Вам для прочтения письмо мое к Софье Александровне, которой прошу Вас вручение его, если только ни Вы, ни Екатерина Ивановна не найдете это предосудительным.
С глубочайшим почтением и совершенною преданностию имею честь быть, Ваш покорнейший слуга Н. Макаров. Еделево.1847 года 19-го мая».
У матери просит прощения за смелость и добавляет: «Не смею надеяться на успех моего предложения, но, по крайней мере, смею уверить Вас, что умею быть и добрым семьянином, и самым почтительным сыном».
Письмо Софье Александровне написано на французском языке. Макаров умоляет Софью Александровну простить его за то, что, не поговорив с ней, сделал предложение ее родителям. Описывает ее многочисленные достоинства, которые заставили его всегда для всех закрытое сердце затрепетать. Говорит, что готов мужественно перенести отказ и вернуться к своей прежней одинокой жизни, единственными радостями в которой являются исполнение долга христианина, гражданина и отца двоих детей.
Сейчас мы уже знаем, что предложение принято не было, а Софья через несколько лет станет женой Михаила Васильевича Ляпунова. Родители её об этом, к сожалению, уже не узнают.
Сороковые годы стали для Александра Петровича большим испытанием. Потери шли одна за другой. В 1842 г. умер Григорий, а в 1847 г., в Казани холера унесла Дмитрия. Потом, меньше, чем через год, в апреле 1848, в Нижнем от этой же болезни умерла и Екатерина Ивановна.
Июнь 1848 г., Болобоново. А.П. Шипилов – М.В. Ляпунову.
«Потерял более жизни своей, которой с большой охотой пожертвовал бы для нее. Но покорюсь воле Творца нашего, ему угодно было, чтобы я еще жил и пекся об оставших детей наших, хотя она полезнее была б для них, нежели я, особенно для дочерей».
Холера бушевала и в Курмышском уезде.
Август 1848 г, Болобоново. А.П. Шипилов – М.В. Ляпунову.
«Ваш братец, Виктор Васильевич (Ляпунов В.В. – уездный врач в Курмыше), решительно эту болезнь уничтожает; я сам подвергся сильным параксизмам этой болезни, но его средствами спасен. В имении моем до 20 человек было зараженных, но его же средствами спасены, из них умер один и сам себя испортил, когда припадки миновали, он не хотел пить мяты, а вместо того напился холодной воды, от чего припадки возобновились и уже во второй раз не успели ему помочь. Около нас в Басурманах, Рыхловке и Мальцеве смертность большая, по тому, что не принимали этих средств, теперь почти всех стали лечить методой Виктора Васильевича и стали выздоравливать. Он этим себе большую сделал славу».
Последнее известное нам письмо Александр Петрович написал своему племяннику Н.В. Шипилову в октябре 1849 г. Через два месяца его не станет. В Болобоново с ним живут четыре дочери, младшие сыновья Саша и Сережа, вероятно, в это время находятся на учёбе. Здесь же, пока строится дом в Деяново, проживает старший сын Пётр с женой Александриной.
«Об себе скажу: я в прежнем положении, лекарства твои регулярно чрез три дня принимаю по очередно, с черточкой и без черточки; но не чувствую еще лучшаго. <…> Домашние мои: Александрина все выздоравливает совершенно, кажется, совсем поправится, а тут опять лихорадка, Петр то здоров, то ноги заболят. Дом его начинают крыть, но не узнаю, успеют ли покрыть железом, а если не успеют, то кроют соломой, и то хорошо, что непокрытой не останется на зиму; хорошо, что успели привезти балки, без них не легче было ставить стропилы. Варинька все в прежнем положении, ни крошечки не поправляется. Софья, Лиза и Наталья, слава Богу, здоровы. Новостей решительно здесь нет, страна глухая, газетные новости не есть новости, потому что они повсеместные, следственно, все написал что нужно».
Как будто пишет другой человек. Для него все в прошлом. Нет никакого упоминания о внуках, между тем, их уже двое: Соня и Саша, полный тёзка своего деда, Александр Петрович Шипилов младший, вся жизнь которого будет связана с Курмышским уездом. Его детям и племянникам придется пережить здесь самые страшные годы, о которых уже они нам расскажут в своих письмах и воспоминаниях.
[1] Профессор медицины Казанского университета.
[2] Институт корпуса инженеров путей сообщения.
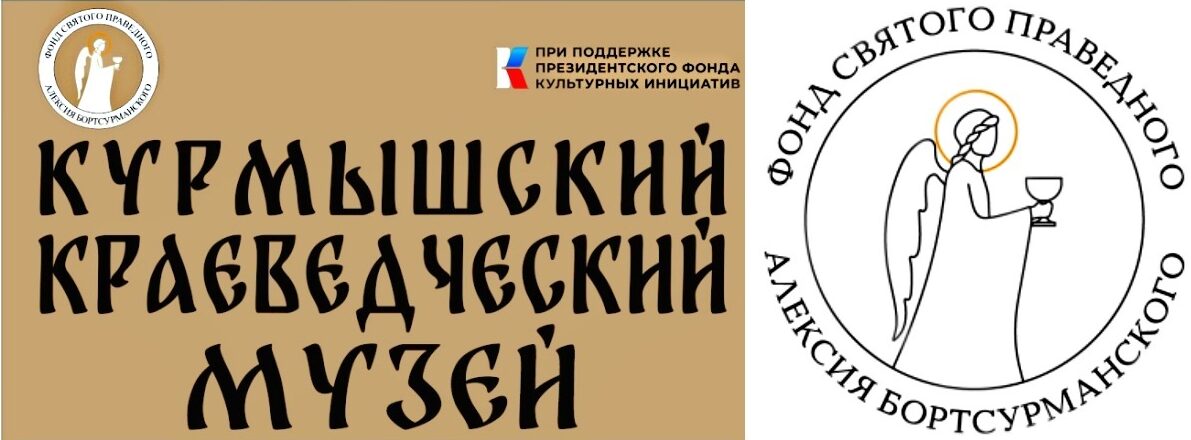





Ноябрь 1831 г., Болобоново.
«Две недели тому назад было у нас очень весело. Д.И. Ермолаев приезжал с двумя дочерьми в Качалово и делал великолепные балы; девицы так умны, милы, хороши, что мы с Папинькой жалели очень, что тебя здесь не было, особливо меньшая, ах, естлиб ты женился на ней, как бы мы были этим утешены, ты бы, конечно, был с нею счастлив!».
Д.И. Ермолаев — Дмитрий Иванович Ермолаев. Две дочери, похоже это Анна и Елизавета. Д.И. Ермолаев – участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов, дослужится до звания генерал-майора, получит гражданский чин статского советника, будет вице-губернатором казанским и вятским. В 1830 году уволен с чином действительного статского советника «с дозволением носить в отставке придворный мундир». Согласно преданиям, Д.И. Ермолаев был очень богат и устраивал у себя роскошные пиры, во время которых шампанское лилось рекой.
Скончался в 1851 г., похоронен в семейном склепе Спасской церкви села Братково. Могила не сохранилась.
В Курмышском уезде, на правом берегу Суры, им принадлежали с. Ильина Гора и д. Ново-Екатериновка. Возле Ильиной Горы у них была усадьба (сейчас Вычелок-2), а также им была построена каменная Троицкая церковь (не сохранилась), Его дочь Варвара (1888), а также Арсений (1891), были похоронены в этой самой усадьбе у каменной церкви.
Большое спасибо за комментарий, уважаемый Игорь. Очень интересно! Обязательно включим эти сведения в свод информации о дворянстве Курмышского уезда и в наши дальнейшие исследования. С радостью поделимся информацией с автором.