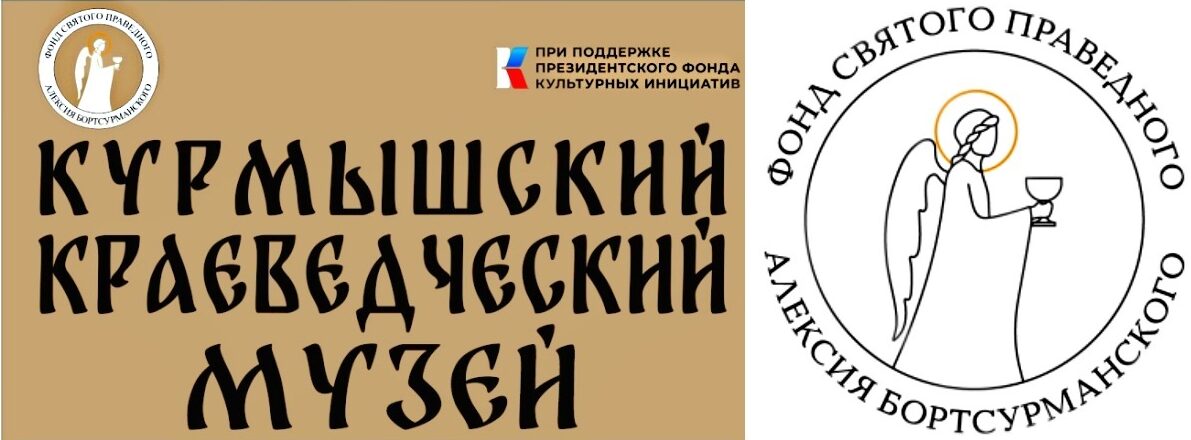Я всё-таки дождалась. Дождалась хоть малой, оборванной на полуслове, но бесценной весточки о Курмыше из уст моего деда – Николая Дмитриевича Вигилянского, рождённого в Курмыше в 1903 году.
Он был внуком настоятеля Богородице-Рождественского храма Алексия Павловича Вигилянского.
Прабабушка Ольга Алексеевна Вигилянская в 1902 году вышла замуж за учителя курмышского городского трёхклассного училища Дмитрия Васильевича Губина, приехавшего в Курмыш после окончания Казанского университета.
Родив первенца Николая, Губины вскоре уехали из Курмыша: в 1906 году Дмитрий Васильевич – уже инспектор Елабужского городского училища, в 1907 г. – инспектор народных училищ Ставропольского уезда, в 1910 г. – коллежский секретарь 1-го района Новоузенского уезда. В 1912 году Дмитрий Губин числится уже не в Новоузенском, а вновь в Ставропольском уезде.



Дальше следы прадедушки и его семьи, к тому времени многодетной, теряются. У нас нет о них никаких известий, кроме пары прабабушкиных фотографий 30-х годов в семейном альбоме.
Сведения о деде Николае появляются только в 20-е годы, когда он, уже взрослый, уезжает от родных, перебирается в Москву, становится журналистом и печатается почему-то под материнской фамилией Вигилянский.
Рассказ о его дальнейшей судьбе долгий, остросюжетный, насыщенный горькими и яркими событиями, с арестом, заключением в воркутинских лагерях, амнистией, скитаниями, романтизмом, энтузиазмом, подвигами на строительстве Каховской ГЭС, творчеством, журналистикой, долгожданной реабилитацией – расскажу как-нибудь отдельно.
Среди многих загадок самой необъяснимой для меня было дедушкино молчание о своей малой родине: ни в одном из его романов, ни в статьях, ни в очерках, которые мне попадались, не удавалось найти никаких упоминаний о детстве, о Курмыше, о семье, о курмышских родственниках – ни слова, ни следа.


С дедом мы разминулись – он умер, когда мне был год. С папой и тётей о своëм детстве и о родителях он не говорил. Просто тайна тайн какая-то.
И вдруг несколько дней назад я получаю от родственников дедушкин архив с письмами, рукописями, заметками, набросками, черновиками – 12 толстых папок и несколько исписанных блокнотов.
Из этой горы – всего полторы драгоценных страницы о Курмыше. Недописанный текст воспоминаний, черновик. Год неизвестен.
Вот что получилось расшифровать:
«Первые годы моей жизни я жил в селе Курмыш, в заволжской глуши, куда не подъедешь и теперь по железным дорогам. С детства я слышал от обитателей села «живём в лесу, молимся колесу», «шла курица, несла мышь, так и получился наш Курмыш», «сторона наше лапотная, в одном корыте и капусту сечём, и детей купаем», «всего покупного в нашей избе самовар да иголка, остальное сами делаем».
Но где бы ни жили потом мои родители: в Саратове, в Варшаве, на лето мы ехали туда, где встретились и создали семьи к бабушке, вначале в поезде, потом большим пароходом по Волге, затем на маленьком пароходике «Чайка» по Суре, а там по зелёной пойме через речку Курмышку в тарантасе, набитом свежим сеном. Курмыш был центром вселенной, добираться до него приходилось долго. В пути пахло каменным углём, и рогожами, и просмоленными канатами, и потом, и соленой рыбой на Волге, и яблоками в Васильсурске, и дымом костров, и стерляжьей ухой на Суре, и конским потом, и сеном, и болотом в тёмной пойме. Звенели колокола на станциях, широко разливались гудки на Волге, свистели паровозы, гремели вагоны, шипели, кидаясь, как львы, шатуны коленчатого вала «Чайки», ржали лошади, квакали лягушки и пели соловьи совсем неподалёку от дома бабушки главной, сильной, тяжеловесной бабушки Анны Петровны. Что касается бабушки Авдотьи, она всюду ездила с нами, мы называли её няней, она носила на руках не только маму, но и её старшего брата Ивана».
Дедушка, а дальше? А дальше?
Александрина Вигилянская